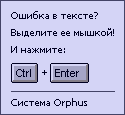| Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Философские науки |
Философская антропология, философия культуры
|
Философия Спарты: образ жизни мудреца и истина лаконского немногословия
Автор: Бойчук Сергей Сергеевич, кандидат философских наук, Луганский государственный университет внутренних дел им. Э.А. Дидоренко
Если мы взглянем на историю философии со стороны, то легко заметим, что вечным спутником мысли был смех проходящего мимо: от той безымянной миловидной фракиянки, находившейся у истоков чистого познания и простого резервуара для воды, через улыбки афинян над «умирающими» учениками платоновской Академии до саркастической ухмылки Воланда за завтраком у Канта. Своеобразным лейтмотивом этой длинной череды улыбок и взрывов хохота звучит заботливое предупреждение острослова и насмешника о том, что над вами, профессор, потешаться будут ведь, все сказанное вами «может, и умно, но больно непонятно».
Поразительным и необъяснимым исключением из этого общего правила выступает уникальная удача дерзновенного «авантюриста духа», созидающего в неповторимом экзистенциальном синтезе невозможное превзойти [3, 227]. Преодолевая ограниченность зрения нефилософов, способных не упасть в колодец, но при этом не видящих звездное небо над головой, этот скромный кондотьер философии разрывает устоявшийся порядок вещей и врывается в пространство символов, оккупируя его идеями, мыслями, образами, а главное: открывая своим призывом стремление к недосягаемому, но по диктату сущности необходимому. Его слову с пиететом сидящего у ног наставника внимают эпохи и культуры, он творит миры, по лабиринтным тропам которых будут скитаться души не только адептов, но и всех имеющих уши и неварварские души.
Мало кто из философов может похвастаться таким благоволением судьбы, в лучшем случае, подобно Пьеру Абеляру или Мартину Хайдеггеру, они поразят современников, околдуют их магией слов и изысканностью умозаключений, но буквально по прошествии нескольких лет, одно упоминание их имени уже считается недопустимым в приличном обществе. Совсем другое дело Платон: в отличие от большинства коллег по цеху, речи и мысли которых никогда не были услышаны в должной мере, великому греку верили безоговорочно, на слово; при чем не просто ученики или последователи, а многие, в том числе и люди весьма далекие от созерцания идей и поисков истинного бытия. Неведомой силой он очаровывал, убеждал и, прежде всего, соблазнял души легендами, мифами и «призраками», то есть тем, за что, по его собственному убеждению, следовало изгонять плохих поэтов из идеального государства. Среди этого восхитительного пира идей, навсегда подчинивших умы, – кто не знает истории об андрогине, двух Афродитах, Атлантиде – необъяснимо пропущен и не услышан рассказ о подлинных философах Лакадемона.
Содержание последнего сводится к следующему: основой могущества и процветания Спарты является не дисциплина и отвага мужей, а скрытая от глаз посторонних мудрость-софия всех свободных граждан, слабым отблеском и подтверждением высокой философской культуры общины равных выступают известные всей Элладе краткие и точные изречения подобные гномам семи мудрецов. Первое прочтение данного отрывка заставляет воображение рисовать образ сурового воина, знающего цену словам, ведь окрик командира и отданный вовремя приказ стоит нескольких жизней стоящих плечом к плечу в фаланге. В шумной толпе крикливых торгашей афинян его выделяет риторическая сдержанность философа-гоплита, говорящего с точностью и грациозностью удара копьем. Попытка дальнейшего углубления по проселочной дороге интерпретаций открывает созвучия обретающему себя в качестве противоположности многознанию и помпезной пустоте речей профессиональных софистов добродетельному невежеству вопрошающего Сократа, или даже аскетическому молчанию даосского отказа от искусственности и механистической условности цивилизации ради возвращения в природную гармонию естественного порядка жизни, смыслов, слов. Однако сам Платон прерывает столь дерзкий полет ассоциаций и призывает понимать его буквально: спартанцы действительно «отлично воспитаны в философии» [1, 229], они укрепляют свой разум еще более настойчиво, чем тело. Вследствие этого ежедневная сиссития есть не что иное, как настоящий симпозиум, необремененный веселием наполненных вином киликов и заглушающей речи музыкой флейт, но именно поэтому с особой ясностью раскрывающий глубину собеседников.
Упоминание между строк диалога «Протагор» лакедемонских мудрецов, проводящих время в философских спорах о гармонии и музыке сфер, оказывается не простой критикой проекта греческого просвещения или составляющей хвалебного спартанского мифа; оно ставит вопрос о философской речи и интеллектуальной культуре как духовном упражнении в контексте экзистенциальных структур традиционного общества. Построенная на универсальной пайдеи Ликурга, спартанская школа духовной муштры и усилий по познанию мира совершенных форм ни в коем случае не является оксюмороном – умной глупостью, возникшей на разломе семантических объемов слов, или contradictio in adjecto. Несмотря на все, что мы слышали о полицейской или казарменной Спарте, любовь к мудрости – логически необходимый элемент всей архитектоники жизни государственного целого, существующего благодаря напряжению воль своих граждан. Мудрость в данных социальных и политических обстоятельствах оказывается залогом и гарантией бытия по причине того, что это не немецкое наукоучение, написанное на птичьем языке, а искусство добродетельной жизни и благородной смерти. Как первое, так и второе в обществе модерна и накопительной горячке одномерных атомов теряет универсальное спасительное значение и отдается на откуп несчастному сознанию, забывшему об участии в проекте глобального и индивидуального становления.
Парадокс необходимости спартанской философии заключается в невозможности «общины равных» вне «лаконского немногословия» и умозрения, свободного от эмпирической, чувственной, эгоистической точки видения и предполагающего универсальный контекст мироздания форм и сущностей в качестве онтологической «подкладки» политической, общественной и личностной реальности. Объясняется это тем, что императив переживания человеческого Я в перспективе единства космоса и восприятие всех вещей как проявлений всеобщности, подчиняющие себе символическое пространство традиции, опираются на философское делание, философию как образ жизни. Последняя утверждается не только текстами, но и актами стояния в истине пережитого знания, вершиной философской системы которой выступает Фермопильское ущелье.
Если подвиг в горном перешейке возвышается «внутренней цитаделью» духа и прочувствованной каждой клеточкой индивидуального и социального организма философией добродетели, справедливости и правильной речи, то все многообразие, волшебная «цветущая сложность» и живая реальность системы мысли и действия выражается в драгоценных осколках мудрости, изречениях спартанцев, переданных Плутархом [2, 289-339.].
Раскрывая мир значений самой большой общины философов, подобно пифагорейцам отказавшей в праве непосвященных в таинства слышать слова о вечном и неизменном, поражаешься изысканностью философского слова укорененного в экзистенциональной практике и соотнесенного с истиной бытия. Наиболее знаковые и парадигмальные примеры этого особого стиля мышления – не хрестоматийные бравурные фразы о битве в тени или предложение персу самостоятельно взять оружие, а великая гномическая философия, обретшая новую жизнь в том, что не под силу зубам времени, в афористических максимах. Глубина и насыщенность последних такова, что некоторые из них в различных жизнеописаниях и сочинениях приписываются Аристиппу, Бианту, Сократу или даже самому Платону. Топос переживания действительности существования и поэтика данных высказываний вырывает их из обыденности привычного контекста философских рефлексий и медитаций; они возвышаются до символики танцующей звезды: ее видят, но отказываются признать по причине слепоты разума забывших недостаточность свидетельств ушей и глаз, если у человека «варварская душа».
Остановимся на нескольких особенно важных темах спартанского философского дискурса и попытаемся увидеть их разумом, свободным от штампов черной легенды о необразованных дикарях, питавшихся ужасной чечевичной похлебкой и потому с радостью уходивших от мучений жизни в свои последние битвы.
Прежде всего, в традиции Спарты поражает трепетное отношение к слову и правильному наименованию вещи. При этом понимание слова выходит за рамки мифологического образа и представляется не через призму иррационального и безотчетного страха перед магией произнесенного и невысказанного, а сближается с конфуцианским призывом к исправлению имен и взглядами Гераклита на сущность благородного познания как единства индивидуального и космического логосов.
В то же время, речь – это еще не философия, а только ее возможность, ожидание и предчувствие должного образа жизни, призванного стать действенной любовью к мудрости. Именно представлением о тождестве слова и поступка в экзистенциально-космическом философском проекте объясняется недоверие и равнодушие к утонченным софизмам и многословию, не научающим уму. «Ты открыл путь добродетели, познал истину, так почему же до сих пор не сделал первый шаг и все еще не живешь согласно с ее предписаниями?» – эту фразу мог презрительно сказать спартанец при встрече любому блестящему ритору или известному мыслителю, и даже глава платоновской Академии Ксенократ не знал как ответить тому, кто прошел воспитание в агелле [см. 2, 305]. Это молчание наследника и хранителя великого учения – неслучайно, ведь, в отличие от историков последующих эпох, он понимал, что в стены школы зашел один из вырвавшихся из мрака пещеры. Его длинные волосы и простой плащ только оттеняли и подчеркивали совершенство в изучении лучшей из наук «повелевать и подчиняться», то есть жить согласно высшему философскому императиву античной культуры: владей собой и поступай как велит разум, оставаясь свободным от заблуждений, вызванных страстями, гневом, ненавистью.
Среди разнообразия наук и премудростей, преподаваемых в рамках спартанской агоге, построенной по принципу учить мальчиков тому, что им понадобится, когда они станут мужчинами [2, 294], особую роль играло воспитание добродетели жить по велению «царского империя», высшей и лучшей части души, обуздывающей низменные чувства. Этот спартанский культ разума-правителя лучше всего раскрывает один из эпизодов, рассказанный Плутархом: илот дерзко вел себя с племянником Ликурга Хариллом, «Если бы я не был разгневан, я бы убил тебя»- произнес спартанец [2, 323]. Смыслообразующим моментом данной экзистенциальной ситуации, контрапунктом, рождающим значения, является недопустимость поступка вызванного недостойными побуждениями «животной» составляющей в человеке. Именно в этом искусстве раскрывается истинная свобода спартиата – свобода быть человеком, а не игрушкой бессознательных сил – и поэтому ученик Сократа, поэт, софист и тиран Критий, описывая государственное устройство Лакадемона, называет спартиатов единственно свободными людьми в полном смысле этого слова.
То, к чему безуспешно стремились стоики, пытаясь достичь совершенства в морали, сжигая себя на медленном огне пустого самоограничения, или робкие эпикурейцы, не способные на дерзость жить, или дышащие пылью поднятой сандалиями учителя и не успевающие стать философами платоники, осуществилась на берегах Еврота. Эллинский идеал философии как образа жизни и мечта всех направлений и самодостаточных одиночек о мудреце, пребывающем в гармонии доблести и знания, оказались несущими основаниями «ликургова космоса» и повседневной практикой общины равных, жившей тем, о чем остальная Греция только вела разговоры.
Литература:
1.Платон Сочинения / Платон. – М.: Мысль, т. 1, 1968. – 623 с.
2.Плутарх Застольные беседы / Плутарх. – Л.: «Наука», 1990. – 592 с.
3.Ясперс К. Всемирная история философии. Введение / Карл Ясперс. – СПб.: «Наука», 2000. – 272 с.
|
|
|
|
|
| Просмотров: 1043 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 4.3/6 |