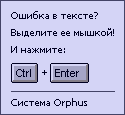| Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Философские науки |
|
Все ли империи гибнут? (у истоков современной мифологии) Автор: Бойчук Сергей Сергеевич, к. филос. н.
Современный человек, пережив смерть богов и крушение кумиров, с детской легкостью и восторженным свиным визгом окунулся в корыто воздвигнутой из костей модерна неоархаики. Жалким обоснованием и необходимым элементом этого гносеологического и экзистенциального Рагнарека последних лет последних людей оказалось особое переживание истории в качестве новой биологии и мифологии. Варварский синтез последних превратил и без того не безупречную Клио в оберег, фетиш дикарей, повторяющих заклинания и призывающих себе на помощь всех кровавых духов. Обезображенная фанатиками, история стала заложницей не только культа памяти, но и иррациональной жажды оправдания собственного ничтожества через причастность к большим батальонам-вершителям прошлого. Однако мечта о том, чтобы история благоволила собственным заветным идеалам, играет злые шутки с наивным первобытным сознанием, заставляя молиться не тем богам и повторять чужие благословления. Наиболее рельефно эта вечная ирония мирового гроссмейстера в бабки проявляется в вошедшем в канон современных верований мифе о неотвратимом конце всех империй. В эссе Евгения Евтушенко можно прочитать о подобии физиологии и центральной нервной системы вымерших динозавров и имперских «наследников Чингисхана»: слабый мозговой центр оказывается не в состояние контролировать гипертрофированные агрессивные конечности как первых, так и вторых организмов; данная коллизия обязательно приводит к постепенному вымиранию не только биологических, но и политических монстров. Этот навязчивый образ громоздкой неповоротливости и несогласованности движений был до такой степени популярным, что заполонил собой фельетоны и научные труды нескольких десятилетий. Проследить хитросплетения его возникновения и развития оказывается крайне сложной задачей, значение же его в качестве вбитого в сознание штампа столь значительно, что по популярности с ним не может сравниться ни один другой «черный» миф. Даже распространенная среди британских политических и литературных кругов легенда об угрозе переноса моделей управления и неминуемого нарушения законов с колониальных территорий в сердце метрополии людьми, прошедшими школу угнетения «подчиненных рас», не может соперничать по влиянию на умы. Современные демократы и либералы, а также большинство тех, кто безосновательно приписывает себя к данным не столько политическим, сколько экзистенциальным стратегиям освоения мира, чрезвычайно любят демонстрировать собственную историческую эрудицию и, ссылаясь на трагический опыт ХХ столетия, утверждать об обреченности империй, а также любых глобальных исторических проектов. Вера в то, что мировой дух играет на твоей стороне и любой высокоорганизованный человек по высшему императиву природы не может не стремится к самоуправлению собой в качестве социального атома и необходимо мечтает о швейцарском сырно-шоколадном рае, придает индивидуальным желаниям характер общекультурного императива. Такое «высокое» чаянье трансперсонального, своеобразная философская страсть преодоления ограниченности субъективного в объективной логике высших смыслов со стороны постсоветской псевдолиберальной общественности позволяет речам звучать с особой торжественностью. Однако с каждым новым повторением против воли в многочисленных квазиинтеллектуальных пришепетываниях все более слышаться нотки, что роднят эти фразы со сдобренными безумным морганием словами последнего человека об обретении формулы счастья. Дело в том, что столь часто с особым самодовольством земляной блохи, оседлавшей бытие, произносимая мантра «все империи распадаются» по своей семантической структуре и метафизической наполненности напоминает наивное морализаторство в духе «все злые люди обязательно умрут». Общеизвестно: история – это кладбище государств, культур, этносов, и гибнут не только империи, но все политические образования, а человек, вне зависимости от моральных качеств, – смертен, «мудрый умирает наравне с глупым» (Екк. ІІ, 16). Поэтому подобные очевидности, на первый взгляд, не нуждаются в специальном исследовании, однако, если вспомнить дидактический подтекст произносимых труизмов, то возникает интересный смысловой узел, требующий рассмотрения и восстановления того семантического контекста, в котором раскрывается значение мифологемы гибели империй. Прежде всего, необходимо обратить внимание на тот факт, что претендующая на статус главного закона бесхребетных времен констатация имперского заката является своеобразной псевдоморфозой старой идеи невозможности демократии в долгосрочной перспективе. Начиная с развития критической мысли в античной Элладе и на протяжении последних двадцати четырех столетий, общим местом размышлений о наилучшем способе правления как раз являлся совершенно противоположный тезис об исторической нежизнеспособности демократической формы организации общества. Основное содержание данной модели критики можно представить следующим образом: демократия по причине таких имманентных признаков, как безголовие и многоголосие не в состоянии адекватно отвечать на вызовы и успешно преодолевать трудности, обязательно проигрывает в любых столкновениях с внешней угрозой или разлагается в результате нескончаемой внутренней борьбой. Примеры с легкостью находили в прошлом: слабые и крикливые Афины стали символом не просто исторического, а метафизического тупика власти народа. Вопрос о том, насколько обоснованным является именно такое понимание места города Совоокой богини в цивилизационном Пантеоне – в данном контексте несущественен вследствие того, что символы всегда выше любой фактологии, и эта закономерность особенно ярко проявляется в области политической риторики и античной истории. Показательно, что один из архетипических и столь немногочисленных апологетов демократии Нового времени женевский мечтатель Руссо очень низко оценивал культурную столицу и «школу Эллады» и всегда апеллировал к опыту Спарты. Несмотря на то, что демократизм общей воли, искренне кутавшийся в аристократический спартанский плащ, во многом выбивался из общего идеала Просвещения, заданного английским балансом властей и упованием на всесилие правового разума, недоверие к опыту Панафинейской улицы оставалось общим местом размышлений всей эпохи, и мало у кого вызывал сомнение тезис «власть народа – источник разрушения государства». Даже те, кто создавали новый мир как оплот свободы и дерзкий вызов романтической иллюзии ancient regime, не доверяли народным массам и старались защититься забором проверенных собственников-избирателей от люмпенизированных элементов, помешать популистам сложной системой сдержек и ограничений. Единственным исключением из ряда новоевропейских способов приручения демона эллинской элевтрии является якобинский эксперимент, искренне пытавшийся утвердить идеалы свободы, равенства и братства по героической античной мерке, правда высказываться в поддержку данного скандального опыта считается дурным тоном для современных друзей народа. Самым ярким проявлением откровенно настороженного отношения к демократии выступает неготовность в традиционном политическом лексиконе отождествлять данное понятие со свободой, лишь в период противостояния двух систем «свободный мир» совпал с демократическим. Поразительным образом болезненная неуверенность, еще жившая в ХІХ столетии, превратилась в ничем несдерживаемый демократический энтузиазм последних десятилетий. На этом политико-психологическом фоне ощущения зыбкости основ демократической постройки, укорененного в чувстве неуверенного блуждания по закоулкам цивилизационной периферии, особым стоическим оптимизмом и уверенной в завтрашнем дне amor fati поражает имперская экзистенция. Несущей конструкцией данного острого переживания ойкумены универсального государства выступает мышление империи в качестве последнего оплота бытия и гарантии торжества справедливости не только в земном аспекте, но и космическом. Однако исключительно мистической поэтикой, связывающей воедино трансцендентные вызовы с повседневным усилием быть, не исчерпывается пространство имперских смыслов; оно уравновешивается прагматикой и романтической бухгалтерией трезвого колониального расчета. Благодаря такому синтезу становится возможным наряду с эсхатологическим измерением и дискурсивный полюс: чрезмерная претенциозность и фаустовская страсть к последним пределам мироздания – чего стоит мечта Сесиля Родса об аннексии планет и штурме звездного неба – никогда не мешали осознанию собственных истоков и пределов в духе апполонического канона самообретения. В наиболее полной степени это спокойное ratio выражается в том самом пресловутом и дискредитированном истерикой современных размышлений вопросе о причинах гибели империй. Прежде всего, необходимо помнить, что процесс становления сложного комплекса имперской рефлексии проходил одновременно под знаком вечности и бренности. Красноречивое свидетельство руин древних колоссов не оставляло ни малейших сомнений в возможном варианте развития событий, для каждого здравомыслящего участника великой драмы речь шла о временном промежутке, в отведенном мгновении которого значение имел императив свершения должного. Окрашенное сумеречными тонами знание не только о падении двух Римов, но и об уничтожении предшествующих Вечному городу мировых держав, оставило ощущение пребывания в зазорах сущего и негарантии успеха. Судьба самых мудрых государственных институтов древних, совершенных законов Нумы и Ликурга, сметенных безумством страстей или волнами варваров, словно триумфальное «memento mori» напоминала о неотвратимом финале и вселяла надежду. Главный бард Империи, англо-индиец Редьярд Киплинг пересказал эту особенность мировоззрения в стихотворении «Дворец». «After me cometh a Builder. Tell him, I too have known» (Вслед за мною идет Строитель, скажите ему – я знал) с такими словами возводящий Дворец Мастер и Король спокойно смотрит в лицо прошедшему и будущему: за его плечами, в фундаменте строения – доблесть римских легионов, что принесли цивилизацию варварам британских островов, впереди – окультуренные джунгли с мостами, железными дорогами и верой в тех, кто после обязательно займет место в строю и на стройке. Смертность империй, это «человеческое, слишком человеческое» и по-христиански острое понимание судеб «земного града», существующего в сложной системе координат отрицания и утверждения «града небесного», не была тайной за семью печатями (единственно экзальтированные адепты новых ценностей грезят вечностью демократий). Метафизика и диалектика падения государств служила основанием для отдельного жанра от опытов, максим, медитаций, политических эпикризов до научной политологии, фиксировавших причины гибели государственных организмов. Сюжет заката тех или иных государственных форм, как правило, выполнял назидательную функцию и оберегал потомков от ошибок предков. Главным негативным персонажем таких поучительных притч выступала несдержанная дама Демократия, на фоне необдуманных поступков которой весьма респектабельно выглядел сдержанный господин Империя. Современная мифологема неотвратимой гибели империи решительно изменила амплуа персонажей, сохранив старый сюжет. |
|
|
|
|
| Просмотров: 246 | Рейтинг: 5.0/1 |
| Всего комментариев: 0 | |