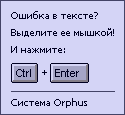| Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Философские науки |
|
Антропология «заботы о себе» спартанского философского воспитания: парадоксы аполлонического человека Автор: Бойчук Сергей Сергеевич, к. филос. н.
Если мысль свободная от стремления к социологизации философского пространства может позволить себе проигнорировать вопросы политической организации при объяснении воззрений того или иного мыслителя, то отступление о государственном устройстве Спарты в сочетании с несколькими хрестоматийными рассказами об особенностях системы воспитания является необходимым пропедевтическим элементом к объяснению взглядов Платона на метафизику и антропологию идеального государства. Столь, на первый взгляд, необоснованное и, откровенно признаем, контрабандное проникновение культурно-исторической биографии «общины равных» на страницы компендиума, объединившего крохи истины и многочисленные безуспешные попытки приближения к ней, представляется ничем иным как скандалом в философии. Данное привычное мнение о спартанской глупости, утвердившееся в качестве общего места назидательных нравоучений о тупиках милитаризма и несвободе «закрытого общества», остается необходимой составляющей лакедемонского миража. Неверно понятые хрестоматийные истории Плутарха, обильно приправленные опытом интеллектуальной ограниченности казармы XX столетия, вливались в черную легенду аномалии полиса на берегах Эврота. Именно поэтому каждый причастившийся спасительным знанием философии и античной истории, верит в невозможность мыслителя с берегов Эврота. Только самые эрудированные умы могут припомнить несколько малоизвестных имен из средневековой Мистры, в том числе и своеобразного трикстера, пародийного двойника Платона – византийца Плетона. Больше философов «спартанского» происхождения учебник не знает, и это только к лучшему по причине того, что крестный отец флорентийской Академии относиться к интересующей нас лакедемонской традиции относится так же, как Фома Аквинский к итальянской или нормандской философии. Первым необходимым моментом в приближении к феномену спартанского этоса поиска истинного знания является обращение к рассказу Платона о второй Атлантиде, философском континенте дорийского Пелопоннеса. Содержание последнего сводится к следующему: основа могущества и процветания Спарты заключается не в дисциплине и отваге мужей, а в – скрытой от глаз посторонних мудрости-софии всех свободных граждан; слабым отблеском и подтверждением высокой философской культуры общины равных выступают известные всей Элладе краткие и точные изречения спартиатов, что подобны гномам семи мудрецов. Ключом к пониманию фундаментальных основ этой философии экзистенциальной выправки и ответственного бытия послужит рассказ Плутарха о том, как один илот дерзко вел себя с Хариллом, племянником легендарного Ликурга; возмущенный недопустимым нарушением упорядоченного мироздания, спартиат сказал: «Если бы я не был так разгневан, я бы убил тебя» [2, 323]. Несмотря на кажущуюся легкость объяснения данной ситуации через обращение к логике знакового пространства «волшебной сказки», поощряющей милость эпических героев к слабым противникам, упоминание факта добросердечности и мягкости ни в малейшей степени не проясняет суть дела. По все видимости, только благодушный морализатор, прощавший персонажам своих «Сравнительных жизнеописаний» такие «человеческие, слишком человеческие» слабости, мог поверить в благодетельную силу кроткого нрава, с легкостью способную остановить руку, занесенную для удара. Тем более, следует помнить, что сами участники данной коллизии пребывали по ту сторону добра и зла, жизни и смерти: первый, если верить доступным нам источникам, был обречен погибнуть от короткого меча спартанского «секретного патруля», второй представлял идеальную машину убийства, всей системой воспитания подготовленную рутинно отбирать чужие жизни. Категорический императив убийства присутствует здесь как звездное небо над головой в виде «кастовой» дхармы кшатрия и как моральный закон внутри доблестного воина, столкнувшегося с недопустимым поведением низкого человека (так Одиссей, не колеблясь, бьет палкой Терсита, дерзнувшего высказаться на совете доблестных). Вся культура оправдывает и подталкивает справедливую десницу. Парадоксально, но требование возмездия опирается даже не столько на социальное измерение, а сколько является нравственным велением. Как сообщает в сумме этики греческого мира первый энциклопедист Аристотель, «кого гнев охватывает из-за того, из-за чего следует, из-за тех, из-за кого следует, а кроме того, так, как следует, в должное время и на должный срок, тот заслуживает похвалы» [1, 136]. Поэтому главный урок спартанца можно сформулировать в виде следующей максимы в духе лаконского немногословия и гномической мудрости семи великих: «недостойно убить в гневе», то есть нельзя, поддавшись инстинкту, животной части души, отринуть в себе разум как действительный и сущностный, субстанциональный и бытийный исток. Для начала, рекомендует традиция, следует подавить в себе эмоции и только потом, в состоянии спокойствия и духовного равновесия, сделать шаг. Фактически, здесь мы видим умонастроение, близкое по духу к даосскому пафосу стрельбы из лука, когда взошел на высокую гору и встал на камень, висящий над пропастью в сто жэней, и великой идеи «не-деяния», опирающейся на техники управления собственной психикой. Идеал аполлонического чувства меры парадоксально совпадает с дао сохранения невозмутимости духа, с одной стороны, и конфуцианским идеалом гуманности, состоящим из умения владеть собой и восстановления правила «ли», с другой. Пространство тождества смыслов и культурных ценностей позволяет говорить об особой антропологической модели благородного мужа, призванной стать базисной, основополагающей для цивилизационных структур античного полиса о особой формы «заботы о себе». Данная модель признается эталонной, как правило, в рамках традиционного общества, которое, в отличие от современности, постоянно провоцирующей страсти как источник получения прибыли и формирования властных/репрессивных пространств, испытывает панический страх перед животным в человеке. Причина этого стремления запереть бестиарность даже на уровне морской свинки в клетке культуры заключается в непередаваемом ощущении угрозы энтропийного распада, навязчивой идеей сопровождающей и терзающей весь символический космос традиции. Прочувственная каждой клеточкой и ставшая несущей структурой антитеза высокого и низкого человека, многомудрого Одиссея и говорливого Терсита, порочного эротика Сократа, преодолевшего в себе стихию страстей, и неспособного подняться над случайными неистинными аффектами завистливого Мелета, оказывается альфой и омегой антропологической картины мира. Грань, разделяющая эти два полюса, проходит по линии отношения к власти и подчинению, к первичной власти над собственным я – причине и условию иных вариантов управления. На первый взгляд, императив «владей собой» является универсальным началом культуры, а гнев большинством традиций описывается в качестве недопустимого греховного состояния. Однако нельзя не учитывать, что мы оказываемся свидетелями исторически и символически локализованного феномена столь сильного аффективного состояния, содержание которого определяется двумя смысловыми топосами: с одной стороны, впитанный с материнским молоком гимн неукротимой ярости сына Пелеева, что много сильных душ отправила в царство теней, с другой - напоминание «на мудрых вместо гнева находили: слезы – на Гераклита, смех на – Демокрита» [3, 181]. Последнее преимущество смеха и слез перед гневом – в свободе индивида как условии благородства и фундаменте политического, не отделимого еще от человеческого. Все многообразие вопросов тонкостей государственного устройства и принципов организации механизма правления преимущественно решается через формирование определенных этических и – что несравнимо важнее – психологических атрибутов личности, призванных обеспечить пространство должного и справедливого как закономерного результата диктата разума. При этом онтологическое доверие к человеческому уму, «царскому империю», неограниченного диктатора, призванного смирить дурное своеволие страстей, совмещалось или, вернее, опиралось на абсолютное пренебрежение к индивидуальному в человеке и подавление всего того, что современное сознание с наивностью ребенка определяет в качестве психологического. Последнее допускалось исключительно в виде материала для преобразования творческим усилием нуса-демиурга, отбросившего все случайное в себе и вступившего в борьбу со стихией внутреннего зверя (Ницше в контексте темы агона в гомеровском обществе говорит о тигре, также вполне возможно обращение и к более прозаичным образам). Таким образом, попытка переоценки ценностей античной философской традиции позволяет увидеть генеалогию фундаментальной антропологической идеи преодоления страстей как условия доблести и мудрости. Система психического воспитания посредством «культуризации» внутреннего мира индивида и подавления всего недостойного выражает общую интенцию полиса и древнегреческой модели философского образа жизни опираться на личность, а не на формализированные институты и развернутые модели внешнего диктата условной нормы.
Литература: 1. Аристотель Сочинения: в 4-х т. Т. 4. – М., 1983. 2. Плутарх Застольные беседы. – Л., 1990. 3. Фрагменты ранних греческих философов. – М., 1989. |
|
|
|
|
| Просмотров: 41 | Рейтинг: 5.0/1 |
| Всего комментариев: 0 | |