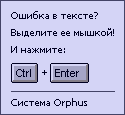| Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Философские науки |
|
Парадоксы философской ситуации начала ХХ века и феномен Н. Бердяева Автор: Бойчук Сергей Сергеевич, к. филос. н.
Хайдеггер неоднократно сожалел о том, что в Германии, как и в других частях цивилизационной ойкумены, не оставленных на произвол истории мировым духом, совершенно никто не читает досократиков. Вместо вопрошания Гераклита или Парменида, интеллектуальный взор профессиональных и «частных» мыслителей все чаще оказывался направленным в сторону речей многочисленных сиюминутных гуру, крикливых халифов на час, умело балансировавших между сокрытостью и проявленностью истины. Лидеры гонки вопрошания сменялись с такой скоростью, что оставленный ворох записочек с вопросами о последнем образовывал прекрасные симметричные узоры дублированных изображений детского калейдоскопа. Оказавшись в ловушке непостоянства чаяний экзальтированных слушателей, Маркс, Фрейд, Маркузе были оттеснены в пыльные кулисы Делезем, Фуко, Лаканом, а востребованность эпохой и газетная способность откликаться на любые колебания атмосферы заменили собой глубинную несвоевременность философии как экстремального чудачества у предельных оснований сущего. Сложившаяся на протяжении лет заката сложная кривая обращений явно не соответствовала классическому канону декартовой системы координат и свидетельствовала о забвении подлинного логоса. Дао вопрошания (а мы помнил, что Хайдеггер отмечал: вопрошать – это, прежде всего, прокладывать путь) в лучших традициях китайского молчания об иллюзорности мира обернулось разговорами на проселочной дороге не только в книжном формате запоздалого чтения, но и в бытийном срезе тишины колокольного ландшафта Европы. Пафос отказа обернулся эпитафией оставленности, зов бытия заурчал торжественными маршами. На этом фоне угасания божественного огня мудрости и повседневной гибели кумиров одной из неизменных величин невозможных в катастрофическом опыте философской воронки двадцатого столетия казался запрос на творчество Николая Бердяева. В отличие от большинства коллег по цеху, которым часто не везло с читателями, литературная судьба скромного «моралиста, историка и теософа» отличалась поразительно стабильным успехом. Востребованность мыслей этого странного «ничьего человека» нарушала логику неуместности рефлексии в объятиях бури: ему с восторгом внимали не только гимназистки и «русские мальчики» по углам трактиров в перерыве между спорами, но и серьезные профессора с европейскими дипломами. В итоге «апокалиптическое кокетство» (Карен Свасьян) заезжего чародея из России сводило с ума и соблазняло западных интеллектуалов, создавая ему в Старом Свете репутацию самого выдающегося русского философа. Данный брэнд до такой степени прочно закрепился за пламенным борцом «с конечностью ради бесконечности» (собственная оценка из «Самопознания»), что рядом с его персоной не было уже места никому кроме тех, о ком он сам иногда писал, или приглашал временными попутчиками. Поставленный эксперимент над истиной удался, и волею судеб, и прежде всего благодаря содействию эпохи глобального разрыва, Бердяев оказался на пересечении многочисленных разломов в качестве энтелехии такого сложного, и неоднозначного феномена как русская философия. Великолепный фокусник, умело достававший из пустого магического цилиндра за уши Канта, Маркса, Франциска Ассизского и демонстрировавший публике чудеса духовного брака, был безупречен и прекрасен. При этом он выполнил функцию идеального посредника между мирами и занял то единственное место репрезентанта, для которого, в сущности, и был подготовлен всем противоречивым процессом собственного интеллектуального роста. Другими словами: загадочный самоучка оказался в меру оригинальным и экзотичным, западным и азиатским, мистичным и понятным, поверхностным и экзистенциально высокопарным, легкомысленным и парадоксальным, то есть именно таким, что бы быть наиболее востребованным и услышанным самыми широкими массами интеллектуальной элиты. Пытаясь объяснить формулу успеха столь авантюрных экзистенциальных поисков, по-змеиному завороживших многочисленных вопрошающих птичек, Иван Ильин в язвительной сказке «Гений» главной причиной всеобщего восхищения объявил «мировую смуту». Именно хаос всеохватывающего шутовского танца поверх себя привел одинокого, пишущего для себя, часто малопонятного и малоприемлемого субъективного отталкивания от ужасов действительности к шапочке Мастера, «философскому колпаку Егора Федоровича». Тот самый ужасный канто-крупповский бронированный кулак, что так напугал русскую мысль, в союзе с моргающим поколением, сбросившим отрывки досократиков с цеппелина современности, позволил ловить рубку в нечистом водоеме и искренне созерцать отсутствующее. Многогранное творчество метафизического анархиста или авторское разноголосие господина «Белибердяева» явилось миру идеально чистой доской, на который каждый по собственному усмотрению выводил любые надписи, а потом объявлял их высшей истиной. Именно поэтому произведения Бердяева как «писателя дерзкого по преимуществу» (Лев Шестов) можно восхищенно читать, исследовать, с энтузиазмом цитировать отдельные фразы или с особым наслаждением критиковать «отсебятину» дилетанта. Все эти способы познания и присвоения фантасмагории парадоксальных разговоров sub specie aeternitatis создают интересную картину реальных и иллюзорных смысловых напряжений, открывающих интересные разломы, как серебряного века, так и в целом познания. |
|
|
|
|
| Просмотров: 160 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/1 |